ПО СТОПАМ СПАРТАКА. ЛУЦИЙ КОРНЕЛИЙ СУЛЛА СЧАСТЛИВЫЙ: ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ
Ставленником от аристократической группировки в конце первого века до нашей эры в Древнем Риме оказался Луций Корнеллий Сулла, получивший впоследствии прозвище Счастливый. В 82-м году все услышали его заявление: отныне он объявляет себя диктатором, причем подобный режим продлился до 79-го года.
В 88-м году Сулла был избран консулом и должен был на понтийского царя Митридата вести римское войско.Узнав, находясь уже в лагере, что решением народа место главнокомандующего передавалось полководцу Гаю Марию, возглавлявшего демократов, Сулла предпринял вывод армии, направил ее на Рим и занял город. Однако сам Марий успел бежать в Карфаген. 72 недели спустя Сулла снова отправился на войну с Митридатом. Поэтому 87 год стал богатым на события для империи; Рим снова был захвачен демократами.
Однако в 83-м году, восстановив римское господство на Востоке, Сулла двинул войска на Италию и снова захватил Рим. Если с Сенатом Сулла договорился бескровно, выпросив у того полномочия диктатора, то с политическими своими противниками, напротив, он расправился очень круто. Дружба с Гаем Марием обернулась безжалостным уничтожением, значительная часть лиц сенаторского и всаднического сословий изгнана, а их имущество распродано с аукциона, досталось и частям территорий общин, особенно рьяно поддержавших демократические группы. В Этрурии и Кампанье (была роздана солдатам Суллы) плебеи лишились большинства своих прав. А в 79-м году Сулла сложил с себя полномочия диктатора, но до конца жизни сохранил доминирующую власть, опираясь на свою партию в сенате и на ветеранов, а также на 10 тысяч корнелиев, то есть освобожденных им рабов, принадлежавших опальным. Данное время было не просто кровавой эпохой Суллы, тогда закладывались основы Римской империи. 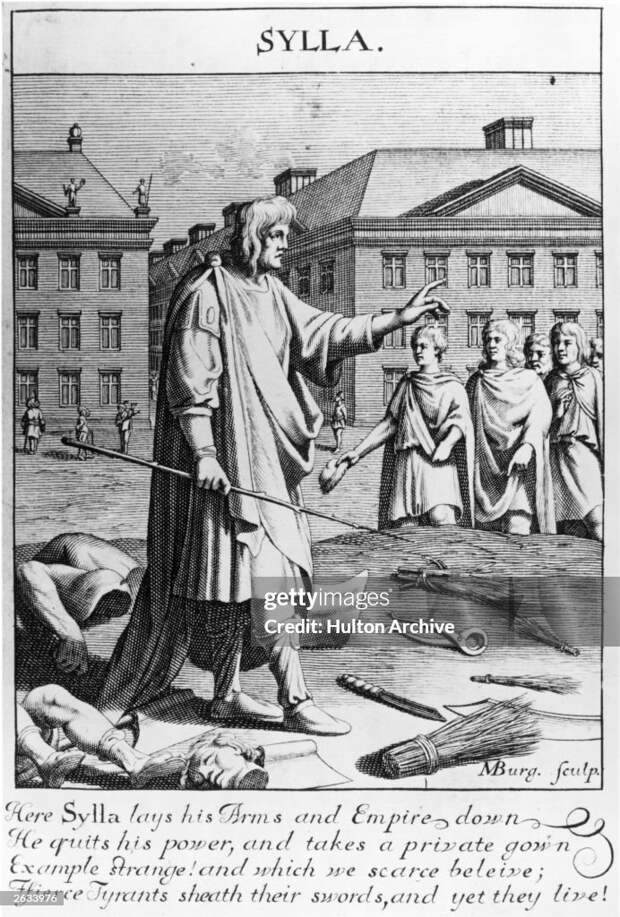 И это лишь кое-что от фигуры Луция Корнелия Суллы, победителя Митридата и Гая Мария, злого гения Афин, диктатора 81-79-х годов, деятеля поздней республики, чья личность привлекала огромное влияние ученых и историков даже того времени.
И это лишь кое-что от фигуры Луция Корнелия Суллы, победителя Митридата и Гая Мария, злого гения Афин, диктатора 81-79-х годов, деятеля поздней республики, чья личность привлекала огромное влияние ученых и историков даже того времени.
ЛУЦИЙ КОРНЕЛИЙ СУЛЛА СЧАСТЛИВЫЙ: ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ
Когда встал вопрос о великом будущем римской истории, дела этого необычного человека в определенной степени повлияли на ее ход. Есть смысл рассматривать этот период даже через призму деяний Суллы, ведь этот диктатор вызывал различные чувства уже у своих современников. Это отмечал и Веллей Патеркул (историк из древнего Рима), которого с Суллой разделило чуть более полувека. Российская историография рассматривает этого человека как наивысший пример двойственности и противоречия духа. Именно противоречивая натура Суллы занимала умы античных авторов, и первое, о чем они писали, это о личности «феномена», а не о его делах. (Позднее историк получил все основания разобраться не только в военно-государственной деятельности этого человека, но и изучить его «феномен», попытавшись разложить «все за и против» личности этого человека, – определить мотивы его дел).
«Феномен Суллы» интересовал многих исследователей античности, однако до сих пор эта историческая фигура остаётся загадочной. К этому утверждению можно «присовокупить» несколько примеров из историографии.
Если обратиться к известной работе авторитетного немецкого историка 19-го века Теодора Моммзена «История Древнего Рима», то там можно найти много примечательного на сей счет. Так, он писал, что Сулла это личность, которого не оценило потомство ни как человека, ни как реформатора, так как оно часто несправедливо относительно людей, идущих против потока времени. Это – историческое явление. Перед Моммзеном Сулла предстал как человек, искренне желавший восстановить республику, как защитник аристократии, не помышлявший о личной власти. И если Моммзен видел в Сулле этакого буржуазного республиканца, то его российский коллега начала 20-го века считал этого человека первым римским императором, отводя его диктатуре решающую роль в истории поздней республики. Императоры любили поиграть республиканскими символами, но вся эта картина была представлена еще до них Суллой. Виппер считает, что когда-то Сулла незаметно объединил «восточный эллинизм» с политикой. Уж слишком неправдоподобны были успехи, которые выпали на долю Суллы, будь он обычным человеком.
Впрочем, другой российский историк первой половины 20-го века Михаил Иванович Ростовцев отмечает, что «подготовили строй будущего принципата» в большей степени именно преобразования Суллы.
Но, по мнению Ростовцева, так и остался неразрешенным вопрос, шел ли Сулла к диктаторству ради «своей реформы» или совершал преобразования, чтобы добиться господства. На взгляд историка подобные вопросы (индивидуального характера) не имеют ответов в научном и методологическом разрезах. В советской историографии наиболее интересные оценки Сулла получил в работах В. С. Сергеева (Москва), С. И. Ковалёва (Ленинград), Н. А. Машкина (Москва), С. Л. Утченко (Москва) и А. Б. Егорова (Ленинград).
Но перечисленные историки анализировали деятельность Суллы с позиции марксизма, а потому их оценки имеют много общего. Если говорить конкретно, то все они (без исключения) выделяли основное положение: большая роль наемной армии (сюда включались и войска не римского происхождения, добровольно ставшие частью италийских легионов, и освобожденные рабы, участвующие в войнах в обмен на свободу) как главное орудие и опора «коренного переворота» во внутренней и внешней политике.
Но даже Владимир Сергеев во второй половине 1930-х годов в своих «Очерках по истории Древнего Рима» характеризовал Суллу если не как императора, то точно как предшественника будущих императоров, с которого началась эпоха военных диктатур. Сулланский отряд сыграл значительную роль в истории. Признаком новой политической организации Суллы стали его реставраторские цели (поставленные с чисто субъективных позиций). Отставку Суллы Сергеев объясняет тем, что существовали иные задачи, помимо восстановления государственного порядка, с чем диктатор успешно справился. С. И. Ковалёв в труде «История Рима» (1948) считал Суллу первым императором в новом, а не в республиканском значении этого слова. Ковалев писал, что лишь с позиции боя Сулла и строил свою власть. Она была необходима преимущественно нобилитету со всеми классическими рабовладельческими «замашками» для борьбы с революционно-демократическим движением.
Данный спецназ сенаторской республики и обеспечивал личную диктатуру Сулле. Однако учения Суллы имели слишком узкую социальную базу, что заставило его отказаться от диктаторства и ограничиться своим политическим влиянием.
Николай Машкин также видел сценарии установления в Риме монархической власти под диктатурой Суллы. Первым в Риме он собрал в один отряд эллинистические теории и обычаи, чтобы иметь религиозное обоснование своей власти. Но если нобилитет шел по одной дороге с Суллой и его реформами, то единоличная власть диктатора (или кого-то еще) никак не совпадала с интересами и задачами высшей аристократии. Находясь перед выбором идти на компромисс или лишиться жизни, Сулла и решил отказаться от власти. (Французский историк Жером Каркопино полагал, что Сулла был настоящим монархом, но Сергей Утченко отрицал подобные утверждения о первом римском императоре). Однако несколько «разбавляет» мнения Сергей Утченко, говоря о Сулле как о защитнике интересов сенатского «истеблишмента». Да, проведенные им реформы возвращали Рим к догракханским временам. Основной же слабостью его политики было использование новых методов и приемов борьбы, опираясь обычно на наемную армию и идею бессрочной диктатуры при стремлении возродить уже отжившую форму правления сенатской олигархии. Это подчеркивал еще российский историк Алексей Егоров, изучавший деятельность Суллы. При оценке Суллы и деятельности «римского феномена» он всегда испытывал немалые трудности. Это едва ли не самая противоречивая фигура поздней республики, действовавшая в момент, когда государство «находилось на перепутье и консервативная и динамичная тенденции уравновешивались».
Егоров, увы, ограничивал историческую роль (а также положение) Суллы, принимая во внимание его неограниченную власть. Но зато диктатура Суллы развила единоличную власть и усилила монархическую тенденцию. Вместе с этим один оптимат упрочил свои позиции, а трансформация республики в монархию была во многом приостановлена. Диктатура не только не ликвидировала противоречия, но, наоборот, только обострила их. Но современный европейский историк, профессор каннского университета во Франции, Франсуа Инар полагает, что Сулла был одним из последних аристократов, свято охраняющих свои традиции.
Поражение Суллы в том, что его социальная и политическая практика была актуальна в прошлом веке. Вот почему Инар так уверен, что Сулла никак не мог быть первым императором.
«Сулла, искренне веривший, что он новый основатель Рима, тот, кто поможет городу узнать новую эру равновесия и процветания, в конечном итоге является только последним настоящим республиканским лидером, но лидером республики, невозможность существования которой он сам показал».
Итак, уже глядя со стороны историографии, видно, насколько противоречивую оценку (отчасти это касается даже советских историков) в трудах новых и новейших исследователей.
Как видно из обзора, главное противоречие в оценке Суллы сводится к нежеланию ученых примирить «неограниченную царскую власть» диктатора с его аристократической «подкоркой». При отсутствии единого мнения о Сулле необходимо тщательно проанализировать источники и вынести объективное суждение об исторической роли этого человека. Заработная характеристика Суллой в историографии античности противоречива, – как и в современной. Исходя из этого, целесообразно привести наиболее интересные оценки древних авторов.
Таким главным источником, на основе которого создается представление о Сулле, является одноименная биография Плутарха, известного исторического писателя первого-вторых веков нашей эры. Вряд ли этот античный автор отображал собственные свидетельства в своем рассказе, который оказал существенное влияние на, если можно так сказать, мифологическое представление Суллы.
Один современный западный исследователь замечает, что первое место у Суллы Плутарха занимает жестокость, а также он «испорченный, но также грандиозный и являющий пример удивительной судьбы. Этот «Сулла появляется как личность, вдвойне включенная в план римской истории.
Начали с причастности к истории политической и к величию римской истории. С другой стороны, хотя Плутарх верно отмечает серьезные недостатки, которые были у других великих римских фигур, он сам проявляет свои страсти, не заботясь о том, чтобы их как-то контролировать, – Сулла не только жесток, но и неумерен, – вряд ли это выдвигает его перед другими римскими лидерами». А Плутарх рисует Суллу крайне противоречивым человеком. Он оценивает дела Суллы до и после гражданской войны, после чего, как и полагается моралисту, делает вывод, что никто в то время так морально не деградировал, как он. «Он по справедливости навлёк на великую власть обвинение в том, что она не даёт человеку сохранить свой прежний нрав, но делает его непостоянным, высокомерным и бесчеловечным». Первые ценности в «плутархове Суллы» в том, что автор приводит много сведений из «Воспоминаний» самого героя. Цицерон порицает Суллу за проведение проскрипций, а также за чрезмерную мстительность, но, однако, официально называет диктатора выдающимся полководцем.
Как сторонник нобилитета, Цицерон одобрял и ограничение диктатором прав народных трибунов.
Саллюстий, современник и апологет Цезаря, дал оценку диктатору в своих произведениях «Югуртинская война», «Заговор Катилины» и «История». В начале своей карьеры Сулла изображен удачливым и талантливым человеком, это, можно сказать, позитивный образ.
Однако как Москва не сразу строилась, так не сразу выросла и властолюбивая натура Корнеллия, и Саллюстий констатирует, что «Луций Сулла, силой оружия захватив власть, после хорошего начала кончил дурно».
Таким образом Саллюстий рисует Суллу противоречивой личностью, у которого первой деятельностью было построить хорошее начало, а в конце сломать все наихудшим образом. Веллей Патеркул, писавший свою «Римскую историю» при Тиберии, отмечал, что каждая похвала Луция до победы логическая, равно как и критика после нее. Судя как Саллюстий, Веллей считает, что именно гражданская война изменила Суллу в худшую сторону: до победы он был мягок и являл собой пример справедливости, но после стал непомерно жестоким человеком.
В писаниях Веллей оправдывал прозвище Суллы, но лишь с условием, чтоб не рассматривать его жизнь после победы. Отнюдь кровожадный.
Правда, как пишет в одном месте «Анналов» Тацит, во время кризиса республики, когда принимались множественные противоречащие друг другу законы, именно Луций Сулла на короткое время навел порядок, изменяя или отменяя многие из них и вводя новые. Так быстро было найдено некое оправдание Сулле. Аппиан Александрийский, греческий историк 2-го века нашей эры, один из лучших представителей историографии античности, считал Суллу великим человеком, который выигрывал бои военные и политические, не брезгуя никакими методами. Это был счастливейший человек на земле в свое время до конца своих дней, если брать за счастье исполнение всех своих желаний, а его имя только подтверждает это.
Аппиан не делает противопоставление могущества диктатора и его (исключительно его, что бы не утверждали другие) проскрипциям, удивляющими своей жестокостью. Луций поистине был царем или тираном, но не в избрании, а в силе и мощи.
Растерявшаяся поддержка хотя бы нашла видимость того, что он избран. Но более всего коммунистическая историография удивлялась тому, что Сулла по своей воле отказался от этой огромной власти. И никто так не был оригинален в подаче характеристики диктатора, как Юлий Эксуперанций, малоизвестный компилятор 5-го века, автор так называемого «Бревиария».
Когда Сулла захватил власть, он ввел множество законов и правил, благодаря которым оставалось мало общин, обремененных налогами, а многие лица получили римское гражданство.
Но Сулла не восстановил отомщенную республику с помощью законов, а сам завладел ею, добиваясь тирании, как это делали Цинна и Марий.
Под влиянием Саллюстия Эксуперанций делает вывод, что «добрыми были его помыслы, когда Сулла хотел защитить поруганную свободу, но дурными – последствия, когда он… сам еще суровее обошелся с государством…»
Образ Суллы в античной традиции имеет не только позитивные черты, как талантливый полководец, целеустремленная и выдающаяся личность, но и негативные, как организатор кровавых проскрипций, узурпатор и тиран. А в итоге образ Суллы получился крайне неоднозначным и даже приобрел определенный мистический оттенок.
Однако эпоха Суллы оценивалась как переходный период, как переломный момент в истории республики.
Диктатор был крайне противоречивым человеком, ему были присущи самые разнообразные качества.
Плутарх писал, что Сулла «производил впечатление человека переменчивого и с самим собой несогласного» (Sull., 6). А чтобы составить более-менее четкое представление об этом человеке, необходимо снова обратиться к античной традиции. Которая относит происхождение будущего диктатора к знаменитому роду Корнеллиев, но это была почти угасшая ветвь из-за почти полной бездеятельности его предков.
Первым опозорился Руфин. В молодости Сулла, находясь в бедности, без зазрения совести «зеркалил» скандальное прошлое своего предка. Именно бедность помогла молодому патрицию стать более деятельным, благодаря чему он приобрел богатство и власть. Впрочем, согласно источникам, Сулла, как и подобает патрицию, получил хорошее образование. Саллюстий сообщает, что у него было какое-то дьявольское дарование усваивать греческую и латинскую литературу. По словам Николая Дамасского, Сулла писал сатирические комедии на латинском языке, а вот какого качества, не уточнял. Диктатор написал «Воспоминания», посвятив их своему любимцу Лукуллу, а если вспомнить, что именно ему доверили усовершенствовать стилистический язык в мемуарах, то это фактически снимает вопрос о его компетентности в данной области. Далее книгу мемуаров Суллы дописывал Корнелий Эпикад (известный в то время грамматик), которого он освободил от рабства. После взятия Афин Сулла привез в Рим библиотеку Аристотеля и подобную коллекцию ботаника Теофраста, которая принадлежала одному греку. А когда привезли туда библиотеку, как говорит географ Страбон, она попала в руки грамматика Тиранниона, ярого почитателя Аристотеля: Сулла, таким образом, внес вклад в распространение в Риме греческой культуры.
К Греции он относился с таким пиететом, что построил там театр в честь одной из своих побед.
Все эти данные свидетельствуют о высоком уровне культурного развития Суллы, но это все было относительно.
Сулла был амбициозным, целеустремлённым и практичным человеком, что помогло ему утвердиться в мире политики. По характеристике Саллюстия, он был красноречив, хитер, легко заводил дружеские связи, умел искусно притворяться в деловых областях, но также являлся щедрым человеком, особенно когда вопрос касался денег. Само выражение «диктатор» вполне подходило Сулле; он не боялся преград при достижении своих целей!
Этот человек, безусловно, обладал качествами харизматического лидера, но обстоятельства сделали его, «попав не в ту колею», главой именно авторитарного толка.
Будучи по натуре властным и злопамятным, Сулла, судя по источникам, был иным в кругу своих близких соратников. А просто ли так диктатор назвал молодого Помпея «Великим» и удостоив его императорским титулом?
Плутарх объяснял такое поведение тем, что между своими ровесниками Помпей выделялся воинской доблестью.
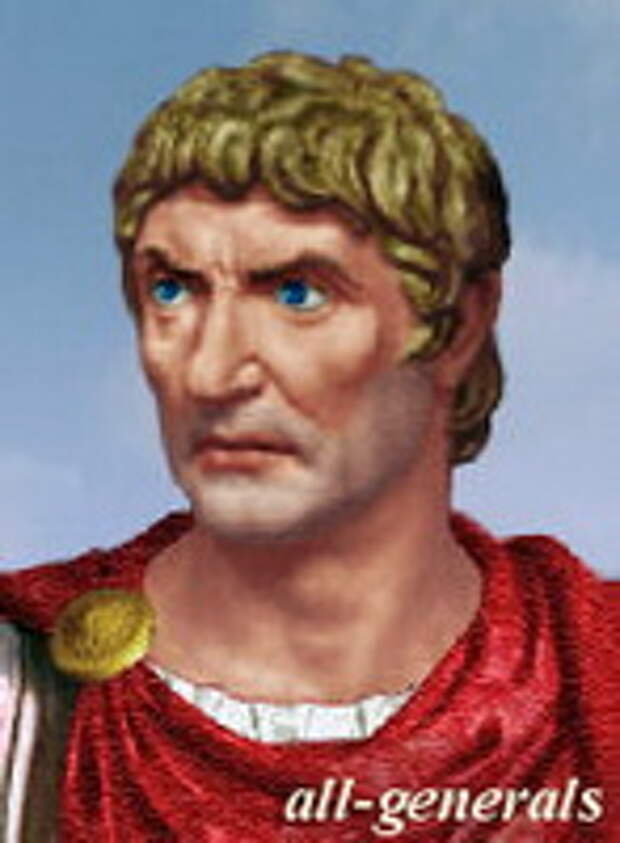
Первым делом Суллы после победы над марианцами в 82-м году был массовый террор против своих политических противников. В ноябре 82-го года был проведен закон оптимата Валерия Флакка, по которому Сулла получал право казнить любого человека по своему усмотрению, причем на это не требовалось какого-либо судебного разбирательства. Таким же образом Валериев закон допускал конфискацию имущества опальных: диктатор мог распоряжаться добром кого бы то ни было по своему усмотрению.
Надо уточнить, что по этому закону опалы и продажи были возможны только в календы июня по римскому календарю. Но это вовсе не сковывало полномочия Суллы.
«Было постановлено, — пишет Плутарх, — что он не несёт никакой ответственности за всё происшедшее, а на будущее получает полную власть карать смертью, лишать имущества, выводить колонии, основывать и разрушать города, отбирать царства и жаловать их, кому вздумается». «Кто спасся за эти чуть более полугода в этой системе сулланского террора? Разве в проскрипции вписываются не лица, чье добро распродается за задолженности?» Сулла не испугался придать этому слову новое значение, вывесив списки с именами приговоренных к смертной казни.
Согласно словам историка Флора, никогда еще нервы не были натянуты до такой степени после издания эдикта. По всей Италии были учреждены суды, которые кроме смертных приговоров выносили «оглашения» о конфискации чьего-то имущества.
Дети и внуки проскрибированных были урезаны в правах гражданства и наследования, им был закрыт доступ к магистратурам (Vell. Pat. II, 28, 4; Plut. Sull., 31; Liv. Per., 89).
Но проскрипции, как и всякий массовый террор, сопровождались множеством злоупотреблений. Вот только далеко не одни марианцы «провинились», были и другие группы людей.
Все на себе прочувствовали «враги» из нобилитета, богатые всадники, «зажравшиеся сволочи», только потому, что их имущество «провоцировало» победителей.
Тем самым Сулла подавлял сопротивление новому режиму в высших слоях римского общества. При Сулле, по сути, были лишь такие люди, как Лутаций Катул, Квинт Гортензий с ведомыми ими частями римской олигархии, тогда как остальная римская знать могла и не подчиняться ему. Только Сулла боролся с теми «зажравшимися», которые могли называться «новомарианцами». В качестве примера можно вспомнить историю с молодым патрицием Юлием Цезарем, племянником Мария и зятем Цинны, которого Сулла включил в список проскрипций, а затем по просьбе родственников осужденного, близких к диктатору, тот «попал под амнистию». Что касается всадников, то эти представители торгово-ростовщического сословия еще со времен Гракхов были основными противниками знати в борьбе за власть при сенате, поэтому Сулла, опирающийся на консервативную часть нобилитета, избавился от самых опасных – наиболее богатых и влиятельных всадников.
Сулле было мало даже тысячи проскрибированных представителей сенаторского и всаднического сословий, увеличив число жертв в несколько раз: «Не хватит мне одного списка с сорока сенаторами и полутора тысячами всадников!»
Во всех источниках значится цифра в 3500 человек.
На взгляд Флора Сулла истребил 2 тысячи сенатских и весь «цвет всаднического сословия». А автор первого века нашей эры Валерий Максим пишет, что проскрибировано было 4700 «зажравшихся», среди которых 40 сенаторов и 1600 всадников, что соответствует цифрам Аппиана, а ведь это только он говорил о верхушке римского общества. Так проявлялись организаторские наклонности перераспределения собственности господствующих слоев населения. Репрессии Суллы против италиков объясняются не только тем, что он воевал с ними, примкнувшими… к Марию и популярам. Вскоре было подавлено движение италиков, право гражданства и самоуправления, произошло их уравнение с Римом. Все вместе они, вероятно, продолжали Союзническую войну, и для достижения стабильности Сулле было необходимо подавить италийское движение. А если верить источникам, то от проскрипций пострадало больше италиков, чем граждан Рима.
После того, как разрушались стены италийских городов, их население подвергалось репрессиям, и Сулла сам раздавал земли легионерам. На страницах Флора сообщается об этом. Можно еще примириться с наказанием некоторых людей, однако ведь были пущены и такие знаменитые муниципии Италии, как Сполетий Интерамний, Пренесте, Флоренция, «с молотка». «Кубанский город» Сульмон, союзный и дружественный, Сулла даже не завоевывал, не разрушал по закону войны, но зато приказал уничтожить всех его жителей. Самый известный эпизод сулланского террора – сидящие на колах 12 тысяч жителей Пренесте – все население города. Осваивавшим террор сулланцам особенно понравилось заставить страдать самнитов. Впрочем, заставил это сделать Сулла, приказав истребить несколько тысяч самнитов в цирке, а его приближенные лишь наслаждались зрелищем.
По сообщению Страбона, затем Сулла продолжал непрерывно преследовать самнитов проскрипциями, выбирая более именитых, пока не уничтожил всех их или не выгнал из Италии. После упрека его в жестокости, Сулла ответил, что действует согласно своему опыту, так как ни один римлянин не будет жить в мире, пока самниты действуют самостоятельно.
Страбон писал при Августе и Тиберии, что города их, хотя и не исчезли все, но стали простыми селеньями. Офицеров не было ни в одном из этих местечек. Впрочем, Беневент и Веннусия известны были частыми упоминаниями и после.
Итак, никто не подвергся таким масштабным репрессиям, как Самний, центр антиримского движения италиков. Владимир, древний «суллавед», главным обвинением выдвигает «организацию проскрипций», и с ним согласны другие авторы (таких, пожалуй, подавляющее большинство), так или иначе затрагивающие имя Суллы.
Оставим пока в покое античных историков, обратив внимание лишь на «основной стержень», который в третьем веке обобщил Дион Кассий. Он, как и Эксуперанций, считал, что Рим «постигло великое несчастье» с приходом к власти Суллы. Никто не в состоянии пересказать все насилия, произведённые над живыми. С женщинами и детьми из самых именитых фамилий обращались так, как будто их гость был самым лютым врагом, не говоря уж о мужчинах.
Это был ужас, а все же оно могло еще казаться терпимым, в особенности тем, кто находился в стороне и просто наблюдал за всем происходящим. Инкогнито нечто подобное имело место и в другие времена. Но ужас состоял в том, что Сулла не остановился на достигнутом и пошел дальше. Правда, многие были тогда жестоки, но на него нашло какое-то безумие превзойти всех в этом качестве…
Чтобы все понимали, что угрозы его не фальшивые, он выставлял белую доску, на которую заносились имена приговоренных. Недаром Дион Кассий свою «правду», свою историю превратил в миф: «Раньше что было, драматизируется намеренно». Хотя Сулла и был жесток, ему приписываются какие-то маниакальные стремления в этом.
Многочисленные преувеличения сулланских проскрипций и подобная драматизация характерны для античной традиции.
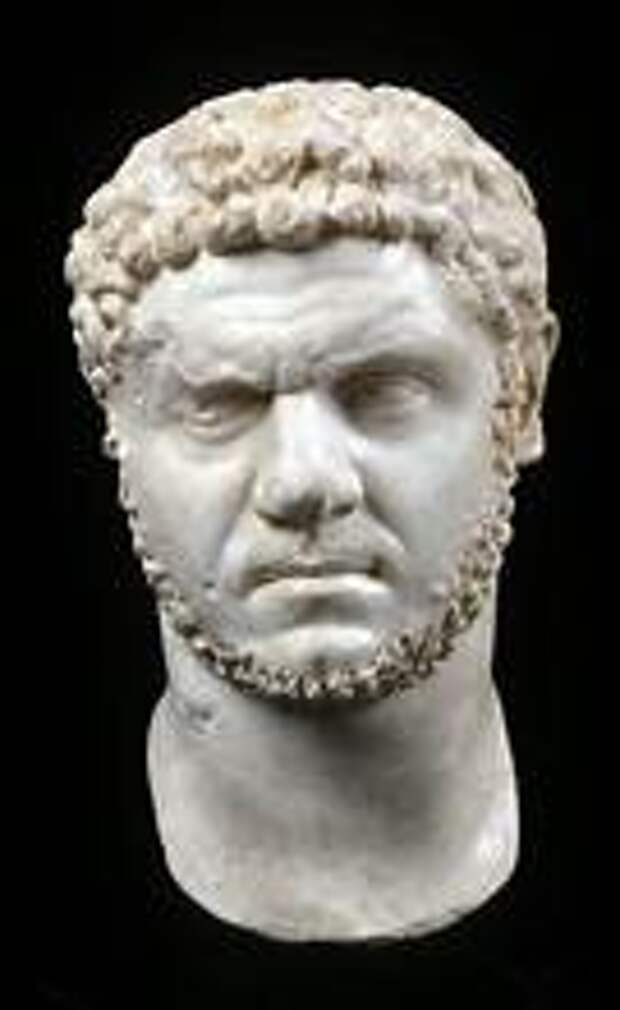
За присвоением себе прозвища «Счастливый» диктатор имел в виду и свою военно-политическую карьеру. Небогатому, но вместе с тем амбициозному аристократу удалось достичь вершин власти и славы. Тревожным набатом для врагов били его личные качества.
Сулла начал свою карьеру с квестора Мария во время Югуртинской войны 111–105 годов. Молодой командир, поначалу неопытный и несведущий в военном деле, в короткий срок стал очень искусен при нём (Sall. Iug. 96, 1). А Саллюстий и вовсе утверждает, что уже тогда стал популярным в солдатской среде: «Почему так мало славят Суллу?», и говорили еще югуртинские воины: «Благодаря его умелой дипломатии, Чечня выдала зятя ее царя Югурту, зачинщики войны».
Однако Марий был недоволен успехами своего квестора, и именно с этого времени началась его вражда с Суллой. В 102—100 гг. Сулла участвовал в кампании Мария против германских племён кимвров и тевтонов, где также проявил большое усердие. Во второй половине 90-х годов Суллу назначают претором провинции Киликия, где он приобрёл административный опыт и, кроме того, воспрепятствовал Митридату Понтийскому захватить союзную Риму Каппадокию (царь Каппадокии Ариобарзан, изгнанный Митридатом, был восстановлен Суллой на престоле). А вскоре Сулла стал первым (по крайней мере из тех, кого зафиксировала историография) римским чиновником, принявшим послов парфянского царя, – РЕШАЛСЯ ВОПРОС СТАТУСА МИРОВОЙ ДЕРЖАВЫ.
После возвращения на родину, Сулла вместе с Марием и другими известными полководцами участвовал в Союзнической войне, отличившись во многих (всегда это имело огромное значение для хода войны) операциях против италиков. Военная слава Суллы помогла ему победить на выборах в консулы на 88 год. А потом началась гражданская война…
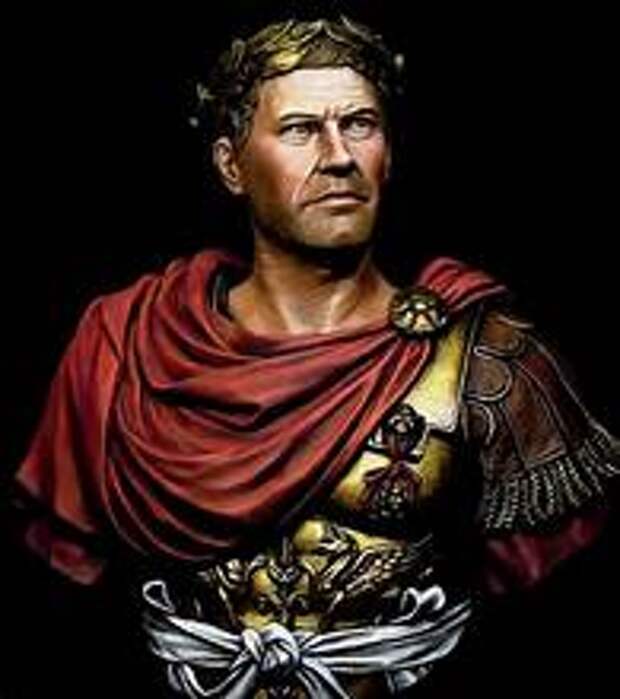
Вскоре Сулла ощутил свою непопулярность со стороны широких слоев населения, его социальная опора была достаточно узкой.
Обстановка благоприятствовала Сулле за счет поддержки армии и наиболее консервативных группировок нобилитета.
Это предопределило если не военный, то точно аристократический характер диктатуры Суллы. Сулла, конечно, понимал необходимость расширения своей социальной базы, и это приводило к поиску сторонников. Поэтому, еще перед избранием в диктаторы Сулла декларировал улучшение положения народа в случае подчинения ему.
Народная масса, находящаяся в руках популяров, была нужна ему, и поэтому он организовал (на месяцы) богатые угощения для городского плебса. К этому следует прибавить и посвящение им «жертвенной геркулесовой десятины» – это был древний ритуальный обряд. Все это повторялось и за территорией Рима. В таком ключе он наградил греческий город Магнесию, противостоящий Митридату, объявив местный храм Дианы неприкосновенным убежищем. Сулла стал главой в восстановительных работах Илиона, стоявшего на месте древней Трои и подвергшейся нападению Фимбрии. Причем этот акт мог иметь и идеологическую цель, учитывая, что Илион считался прародиной римлян, и тут Сулла как бы становился его патроном. В источниках выделяется несколько основных групп сторонников Суллы, которые составляли его социальную базу. Впереди, однако, «рисовались» условности такого деления. Замыкал этот строй армейский корпус. Наемная колонна была главной опорой сулланского движения, именно она обеспечила ему победу. Выдвинутые Суллой «боевики» популяризовали своего командира. По рассказу Саллюстия, во время пребывания в Азии ОПОновцы Суллы взамен на верность ему позволяли себе разгул и мародерство. Ещё более красноречивый рассказ о лояльности Суллы к солдатам передаёт военный историк II в. н. э. Полиен. Сулла в Союзническую войну, когда его воины умертвили претория и легата Альбина камнями и палками, не преследовал их, но простил убийц, сказав, что этим они сделаются более усердными к войне, будучи вынуждены из-за большого прегрешения оправдаться большей доблестью. Впрочем, после захвата восточной добычи, согласно Аппиану, Сулла имел верную ему армию, организованную, восхваляющую его геройства. Уже президент Сулла щедро наградил своих солдат и, пытаясь предупредить их требования в будущем, сделал колонистами. Что стоит, хотя бы, согласно Ливию, раздача в самнитской Ноле полей двадцати семи легионам Суллой?
Ан меньше. Один семидесятидвухлетний легионер был поселен в Этрурии. Однако он не превратился в крестьянина. Старый ветеран не был знаком с производительным трудом, его средством существования была война, поэтому он очень скоро деклассировался. Примерно через 15 лет после смерти Суллы, многие его колонисты, по словам Саллюстия, к концу 60-го года от всех своих добыч из-за распутства и роскоши не оставили ничего.
Бывшая главная и самая надежная опора Суллы – военные колонисты – получили свою добычу, связанные с ним кровавой порукой.
Реальную силу составлял и нобилитет: Сулле оптиматами была отдана Армения, за это он защищал их интересы, укрепляя одновременно и личную власть, чтобы не впадать в зависимость от сената. Но союз Суллы с сенатом был исторически обусловлен, так как обе силы нуждались друг в друге. Во всех интересах Сулла был связан с нобилитетом. Погрязшая испокон веков знать в тех условиях была заинтересована в союзе с Суллой, ведь альтернативой его диктатуре могла быть только марианская, совсем невыгодная для оптиматов.
Отсутствие у сената вооруженных сил сделало опасным Суллу, который именно как военный вождь стал играть главную роль в этом союзе.
Сторонниками Суллы были не только Лутаций Катул и Квинт Гортензий, но и молодые представители знати Помпей, Лукулл, Красс, Катилина. Из них Красс и Катилина приняли прямое участие в проскрипциях. Известно, что он встретился в Афинах с молодым состоятельным всадником Помпонией Аттикой, после чего стал проявлять к нему доброжелательность. Впрочем, не только к нему одному: молодой аристократ Марк Порций Катон в числе «друзей-товарищей» Суллы находился на «первых-вторых» местах и пользовался огромным авторитетом.
А захватив власть, Сулла должен был предоставить объяснению своему новому режиму, доказать необходимость своей диктатуры во имя восстановления республики, приобрести любовь широких масс. Источники свидетельствуют, что свой переворот Сулла обосновывал идеологическими и религиозными характеристиками. И тут Сулла шел по дорожке, которую до него проторили Сципион Африканский и Марий, принявший имя «Новый Дионис», пытавшиеся обосновать свой исключительный статус. Катилина творчески использовал традиции предшественников Суллы. Но диктатор и сам пытался создать свой позитивный образ в историографии, написав «Воспоминания», в которых клеймил противников и объяснял собственные удачи волей богов. Во второй книге «Воспоминаний» он нашел что-то общее между своим родом и фламином Юпитера Публия Корнелия, который якобы первым присвоил себе прозвище «Сулла». Возглавлять тенденцию прославления Суллы взялся его современник историк Луций Корнелий Сизенна, написавший после смерти диктатора о гражданских войнах и тех, где тот принимал участие. Поэтому Сизенна, по словам Салюстия, знал историю эпохи Суллы лучше всех из авторов описаний событий того времени, но был недостаточно беспристрастен в своих суждениях.
Причиной субъективности Сизенны была его принадлежность к роду Корнелиев, поэтому всех относящихся к нему он записывал в великие бойцы справедливости на благо Рима.
Слава Суллы произошла из его военных подвигов, чему диктатор так же не мог не уделить внимания. Он организовал богатый триумф в честь победы над Митридатом, причем шедшие рядом сенаторы смотрели на него как на спасителя и отца. В честь победы над самнитами диктатор организовал цирковые игры, получившие в честь такого учредителя название «Сулланские победы». Но главным образом говорилось о культе гения Суллы.
Подобное Сулла говорил солдатам еще во время военных действий.
За принятием титула диктатора последовал второй шаг: он взял себе имя Счастливого, избранника богини счастья, ибо кого еще так выделила Афродита Венера? Не должен ли Сулла действительно почувствовать себя счастливым после победы над марианцами? Западный историк Балсдон, анализируя прозвища Felix и επαφρόδιτοσ, пришёл к выводу, что второе из них является не переводом первого, а самостоятельным титулом, т. е. предназначалось для греческого Востока и должно было напоминать о происхождении римлян от Энея и Афродиты?
В дар Дельфийскому оракулу диктатор послал секиру и венок из чистого золота, посвятив их Венере, которая как будто бы помогла ему в битвах. В Риме Сулле поставили «конную» статую (с надписью). Идеалом Венеры восхищались в надписях (они были буквально повсюду), его считали любимцем Афродиты. Даже побеждённые Суллой афиняне вынуждены были учредить государственные празднества «Силлеи» и установить публичную статую в его честь.
Впрочем и сам Сулла выпустил монеты (дело было в 82 году до нашей эры), на одной стороне которых была выгравирована голова Афродиты, а на другой изображены в подражание египетским образцам два рога изобилия, символизирующие наступление благоденствия.
Дело литературы не могло «закрыть глаза» на всю эту пропаганду. Это видно, например, из сохраненного рассказа Аврелия Виктора о том, как некая женщина, которая, возможно, была богиней, явилась к младенцу Сулле, принеся предсказание, – в будущем его ожидало счастье. После этих фактов надо признать, что Сулла стремился укрепить свою гегемонию не только в политической сфере, но и в религии и идеологии римского общества. Эта тенденция берет начало от Сципиона Африканского и Мария, однако Сулла начал ее трансформировать от полисной системы ценностей в идеологию военной монархии. (Также нельзя преувеличивать роль Суллы в этом.) Сулла подготовил почву для развития императорского культа своим преемникам, в первую очередь Цезарю. В свою очередь Сулла внезапно ушел из власти – самое загадочное, наверное, из всех действий диктатора. После избрания консулов на следующий год (лето 79 г.), диктатор созвал народное собрание, на котором официально отказался от власти, даже пообещал дать отчёт в своих действиях, если кто-либо имеет к нему претензии. Диктатор удалился на отдых в свои кампанские поместья, но это не означает, что он оставил государственные дела. Политическое производство бывшего диктатора имело место быть вплоть до его смерти в 78 году, а ветераны и корнелии заставили сенат устроить Сулле почти царские похороны. Но сейчас оно вызывало удивление в связи с отказом Суллы от власти. Да, Аппиан комментировал этот поступок, но до конца никто так и не смог понять его мотива.
По версии Аппиана, Сулла пожелал превратиться в тирана из частного человека, а затем вернуться в частную жизнь и одновременно заниматься сельским хозяйством в том, что за все дела он брался с пылкостью и все делал с большой энергией. Кажется, Сулла, заручившись войнами, властью, Римом, полюбил сельскую жизнь. Подобное мнение делалось Аппианом, поэтому можно уверенно ответить: вряд ли с этим можно согласиться. Сулла пришел в политику по личным причинам, но есть большие сомнения, что оттуда он решил уйти по ним же. Сулла, видимо, увидел, насколько узкий размах его социальной базы, и понимал, что в недалеком будущем может появиться сильная оппозиция. Главной опорой Суллы, помимо армии, был нобилитет, а оптиматам не мог импонировать его размах власти и авторитарные методы правления. Но все главное, видимо, в другом.
В диктатуре – противоречия: с одной стороны это был типичный оптимат со всеми достоинствами и недостатками знати, с другой – военный вождь, ломавший традиции республики.
Одновременное сочетание в личности Суллы консервативного аристократа и военного вождя вызывает главное недоумение и является главной особенностью этой исторической фигуры. Трудно сказать, держал ли в своем уме Сулла как «мыслимую форму правления» именно сенатскую республику. В любом случае, в силу исторических обстоятельств он создал режим и предпочел ему традиционную (классическую) для Древнего Рима форму правления. Возможно, у него не было средства спасения от вероятной развязки, но внезапная смерть помогла ему. Если же говорить об историческом значении сулланской диктатуры, то она предопределила развитие Римской республики в том, что вместо военной тирании Мария, лавировавшего между популярами, всадниками, италиками и плебсом, явился режим Суллы, опиравшегося на армию и оптиматов, а торгово-ростовщическое сословие было исключено из политики, оставив ему поприще лишь в экономике, и разнузданная нестабильность политических партий на время исчезло в силу уничтожения оппозиции нобилитету.
Эх, Римская республика, гнить бы тебе на задворках истории, не появись в конце 70-х годов на политической арене Помпей!
Таким образом, еще несколько десятилетий жила ностальгия, и диктатура Суллы способствовала сохранению сенатской республики.
Вместе с тем нельзя отделять диктатуру Суллы от цезарианской, ведь и там были и опора на наемную армию, и командные методы правления, и попытки скрыть аторитарные формы под республиканской оболочкой, и многое другое, и нельзя не видеть тут переход от республиканского строя к имперскому. К этому приводит ее историческое значение.
Как бы древняя и современная Москва ни оценивала Суллу, это, безусловно, была великая личность – не только в римской, но и во всемирной истории.
Свежие комментарии